Хирург Валерий Чеканов о тайнах жизни и смерти

Валерий Сергеевич Чеканов – доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург. Люди его профессии каждый день сталкиваются с тайнами жизни и смерти, становятся свидетелями Промысла Божия о своих пациентах.
Я был очень далек от веры в Бога
Профессия хирурга, с одной стороны, чаще всего приводит его к вере в Бога, а с другой стороны, до этого прозрения он проходит путь активного неверия. Прежде всего, никого из студентов не учат такому материалистическому подходу к человеку, как студентов-медиков. Не то чтобы их учили так специально. Но все построение сначала теоретической, а потом и практической, прикладной медицины, хирургии неминуемо убеждает будущего врача в том, что нет никакого Промысла Божьего ни в возникновении человека, ни в его жизни.
Когда вы несколько лет в медицинском институте проводите много времени рядом с трупами в анатомическом театре, когда изучаете эмбриологию и наблюдаете, как из двух невидимых клеточек возникает сложнейший организм, вы свято верите, что все это происходит по законам природы, но никоим образом не по Божьему указанию. Студентом-медиком я был очень далек от веры в Бога.
Ярославский медицинский институт
Я поступил в Ярославский медицинский институт в 1957-м году. Ныне он называется Медицинской академией. На первом курсе наша учеба продолжалась около месяца, а затем нас всех отправили на месяц в колхоз – убирать картошку. Как с помощью школьников и студентов (в школе мы тоже ездили на полевые работы) планировали поднять сельское хозяйство – это тайна за семью печатями. Мне хочется сказать о другом.
В колхоз мы ездили в течение всего курса обучения в институте, и выделенные на каждый предмет часы сокращались. Так поступали и с хирургией, и с терапией, и прочими клиническими предметами, но не с общественно-политическими, которые сокращать, может, и можно было, но смельчака, который бы предложил сделать это, не находилось. Да и сможет ли врач стать настоящим специалистом без хороших знаний истории КПСС?
Ответ прост и очевиден: без знаний хирургии оперировать можно, без знаний точных дат коммунистических съездов – нельзя, ибо на исторический и диалектический материализм, историю КПСС, научный коммунизм и научный атеизм отводилось столько же часов, сколько на три кита медицины: терапию, хирургию, гинекологию и акушерство. Кого из нас готовили?..
Правда, все политические науки я учил так же усердно, как и прочие, не манкировал, демаршей не устраивал, и, вопреки десяткам и сотням тысяч моих современников, похвастаться или с гордостью сказать, что по этим предметам у меня всегда были только посредственные отметки (как протест против советской власти), увы, не могу. Был молод и верил в то, чему нас учили.

Ярославский медицинский институт
Первый опыт
С особенным удовольствием я изучал анатомию, и все запоминалось очень легко. Сразу же в научном кружке стал делать свою первую научную работу. Препарировать нерв и все его ветви было довольно-таки сложно, но научился и заложил хорошие навыки на будущее.
Особым шиком считалось испросить на дом череп и невзначай показать его домашним
Постепенно мы привыкали к моргу, виду трупов и их частей в формалине. Некоторые на первых занятиях падали в обморок. Два-три студента так и не смогли преодолеть эти анатомические занятия и вынуждены были вообще уйти из института. Особым шиком считалось испросить на дом череп и невзначай показать его домашним. На ассистентов и доцентов кафедры, которые могли наспех перекусить бутербродом прямо в анатомическом театре, смотрели с восторгом и мечтали, что когда-нибудь и мы будем такими же.
Почему-то запомнились студенческие столовые. Денег было мало: стипендия всего 22 рубля. Правда, стартовая зарплата врача в те времена тоже не отличалась большими размерами – 72 рубля. Но во всех столовых на столах лежали горы бесплатного черного хлеба. Если имелись 10 копеек на чай с сахаром – можно было вполне сносно покушать.
Неужели мы рождаемся, чтобы просто ждать смерти?
С первых же недель, на лекциях по биологии и органической химии, меня стала преследовать мысль о бессмысленности бытия: неужели мы рождаемся, чтобы просто ждать смерти? Это была философия атеизма, но нас и воспитывали атеистами. Чем дальше я учился в медицинском институте, тем запутаннее становилось для меня понятие о целостности человеческого «я», о его неразрывности с духовным началом.
Я с упоением перечитывал гениальный труд «Гнойная хирургия», написанный святителем Лукой (Войно-Ясенецким) между двумя ссылками за Полярным кругом. Знал, что за этот труд великий хирург удостоен Сталинской премии, но не подозревал тогда, что он является одновременно архиепископом.
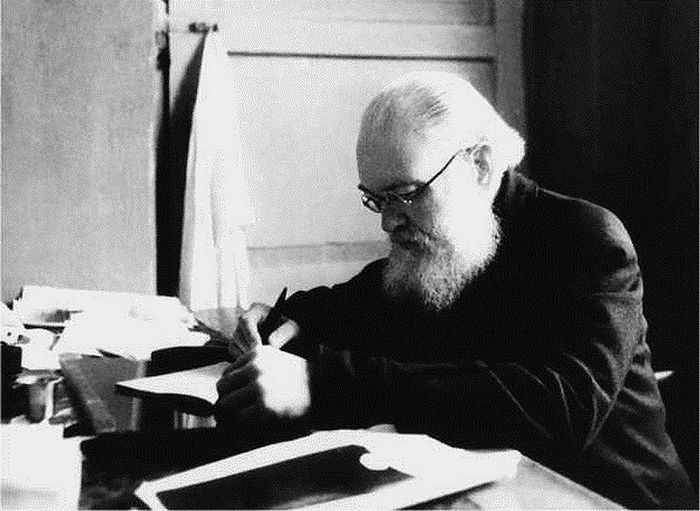
Хирург и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
Как мы помогали собирать урожай на целине
В сентябре 1958 года вместо занятий мы отправились на целину, в Казахстан, в Кустанайскую область, в Узункольский район. Поехали практически все курсы, правда, не знаю насчет последнего, шестого. Был целый поезд из Ярославля, состоящий из студентов, на два десятка товарных вагонов: нары и никакой еды – только то, что взяли с собой. Но эти трудности нас не пугали – мы все горячо верили, что только последствия войны мешают нам жить в коммунистическом раю.
Ехали долго – четверо суток. Наконец нас привезли и выгрузили в чистом поле, на каком-то полустанке, затем посадили по грузовым машинам и повезли в степь, а часа через три снова выгрузили в чистом поле. Оказалось, что в одной из машин были какие-то армейские палатки, человек на 20 каждая. Имелись и знающие, как их ставить. К ночи с палатками разобрались, открылась и полевая кухня.

На целину 1957 год
Мы должны были помогать комбайнерам убирать хлеб. В то время кто-то из советских ученых доказал, что урожай будет больше, если пшеницу не убирать сразу же (мол, при этом теряется много зерна), а сначала дать ей полежать три дня на земле и только потом собрать. Вспоминается красота невероятная: ровными рядами, уходя за горизонт, лежали полосы скошенной пшеницы. Прошло три дня. Работали, правда, много, от зари до зари. Уставали. Но впереди, как нам грозили механики, будет еще труднее. Все скошенное за эти три дня надо было собрать.
Стояли чудесные сентябрьские дни, было тепло. Мы ждали своего четвертого трудового дня, и он наступил, но не совсем так, как мы предполагали: ночью выпал снег, и все ровные ряды аккуратно уложенного на землю хлеба оказались под снегом.
Прошло почти 20 дней нашего пребывания на целине, а снег лежал везде и не таял – под снегом оказался весь урожай. И вот однажды слышим в новостях: наш Узункольский район рапортует стране, что весь урожай зерновых собран досрочно и на 15% больше, чем в прошлом году. Тогда, пожалуй, мы начали понимать, что не всей государственной информации можно верить.

Студенты едут на целину
Наконец снег сошел. Можно было приступить к работе – сбору зерна из валков пшеницы. Но теперь это были уже не валки, а бесконечные зеленые полосы проросшей пшеницы: она перепутала осень с весной и теперь должна была погибнуть под новым снегом, который скоро снова выпал. Делать нам было уже нечего, и, без толку потеряв учебное время, мы вернулись в Ярославль.
Как я впервые оказался на службе в храме
Врезался в память один случай в Ленинграде – как я впервые в жизни попал на службу в церковь. Как-то я отправился в Музей атеизма, который располагался в Казанском соборе. Спрашивать дорогу не стал и, увидев красивую церковь (теперь уж и не знаю, какую), вошел в нее, твердо уверенный, что это и есть Казанский собор. О том, что в этот день празднуется Рождество Христово, и во всех уцелевших от коммунистического разбоя церквах идет служба, я, конечно, и думать не думал.
Открыл дверь, вошел – и ничего не понял. Везде иконы, стоят люди, пахнет ладаном. Слава Богу, с детства был воспитан так, что, входя в любое помещение, сразу же снимал головной убор. Снял и в храме, так что замечаний не получил. А затем увидел и совсем неожиданное: очень близко ко мне стояли, как мне показалось, не менее 20 священников в невероятно красивых одеждах. Но еще более красивыми были сами священники: великолепные русские лица – такие красивые, одухотворенные, спокойные. Мне показалось тогда, что никогда в жизни более красивых лиц я не видел.
Как черт от ладана, бросился я вон из церкви и бежал, наверное, квартал, а то и два
И вдруг я понял, что нахожусь в действующей церкви на настоящей службе. Теперь бы мне сделать признание, как пронзил меня луч озарения, и я, просветленный и одухотворенный, обратил свое сердце и душу к Богу. Все получилось ровно наоборот: как сумасшедший, как черт от ладана, бросился я вон из церкви и бежал, наверное, квартал, а то и два. Твердо и прочно воспитывали нас в школе и институте, а я, истинный комсомолец и продукт советского режима, был хорошим учеником.
Ночные дежурства
Общую хирургию я прошел отлично, значительно шире программы, перечитал все, что было в институтской и областной медицинской библиотеках, знал массу нужного и даже ненужного, законспектировал сотни страниц. Но главное – на третьем курсе у меня появилась официальная возможность дежурить по ночам в неотложной хирургии и ассистировать на операциях.
Не успели начаться мои ночные дежурства, как я столкнулся с тем, что больные мешали дежурному персоналу, особенно санитаркам, спокойно поспать, спокойно покушать, спокойно отдохнуть за небольничными разговорами. Многие санитарки кричали на больных. Надо бы бояться хирургов, но их не боялся никто, зато санитарки и медсестры наводили страх на больных и родственников.
И я, конечно, оказался в первую очередь зависим именно от санитарок. Как же я мешал им жить! Надо было найти для меня шкафчик, в который, переодевшись, я должен был повесить свои вещи. Нужно было найти для меня местечко, где я мог бы прилечь ночью, если не было больных и операций. Нужно было дать мне операционную одежду. Надо было из-за меня отвлекаться на объяснения, где что находится, особенно в первое время. А как страшно было что-то попросить сделать (дать больному судно, что-то убрать, помочь положить больного на каталку, отвести в палату), если видел санитарку или сестру за чаем, за ужином или за беседой...
Первая операция
Весенний семестр, я был уже достаточно взрослый, более того, казалось, что совершенно взрослый, 21 год. И все большая уверенность в том, что хирургия – это мое призвание. Дежурства в областной больнице становились все более и более интересными, и наконец мне разрешили в первый раз ассистировать на операции аппендэктомии. Помню и оперирующего хирурга – Пампутис. Он все делал как-то легко, без видимых усилий, и был прирожденный учитель: не оговаривал, не кричал, даже словно не замечал моей нервозности, неумелости. Подправлял, направлял корректно, уважая молодую амбициозность.

Валерий Чеканов
Как я впервые услышал о духовном мире
На пятом курсе наибольший интерес для меня представляли блестящие лекции профессора Анатолия Константиновича Шипова, ученика академика Александра Васильевича Вишневского, хирурга знаменитой Казанской хирургической школы.
От профессора Шипова я впервые в жизни услышал о духовном мире. Это меня потрясло
От профессора Шипова я впервые в жизни услышал о духовном мире. Это меня потрясло и запомнилось на всю жизнь. На одной из его лекций, посвященной вопросам реанимации после клинической смерти, профессор привел пример интересного случая с больным, которого ему удавалось реанимировать два или три раза после сложных полостных операций. Этот больной, ожив в очередной раз, просил профессора более его не реанимировать: ведь там, где он был после смерти, оказалось намного лучше, чем на земле.
Мы, студенты, были поражены и даже шокированы. Это упоминание о загробном мире, будь оно доведено до партийных властей, могло стоить профессору его кафедры. В 1962-м году в Советском Союзе такие опусы не прощались. До этого я никогда не слышал о загробном мире и ничего подобного не читал – ни научного, ни религиозного. И это накрепко засело в памяти.
Распределение
Институт я окончил блестяще, мечтал заниматься наукой, у меня были только отличные оценки и красный диплом, но за меня никто не просил, знакомств не имелось, и я не попал ни в число оставленных в аспирантуре, ни в клинической ординатуре, ни в системе ярославского Горздрава (среди них, кстати, были довольно посредственные студенты). Мой друг, всегда учившийся весьма посредственно и без красного диплома, был оставлен в аспирантуре. Просто откровенно плохо учившийся 35-летний секретарь партийной организации института был оставлен в аспирантуре.
Меня же распределили в деревню Вологодской области, в малюсенькую деревенскую больницу, причем даже не хирургом, а простым сельским врачом, поскольку там вообще не имелось ни хирургии, ни операционной. Главным ударом для меня стало то, что поступить в аспирантуру по хирургии можно было только после двух лет работы хирургом, но не сельским врачом, так что путь в вожделенную науку для меня закрывался прочно.
Запомнилась фраза профессора, который командовал распределением. Он сказал мне следующее: «Говорят, ты у нас среди выпускников звезда первой величины. Если это так, то ты засверкаешь и на вологодском небосклоне».

Грязовец
Грязовец
Итак, я отправился в Вологду. Приехал не 1 сентября, а на месяц раньше, и сразу же заявил: готов работать, начиная с завтрашнего дня, но если возможно, то по специальности – хирургом. Попал вовремя. В городе Грязовце, в трех часах езды поездом от Ярославля, уже второй год без отпуска работал молодой хирург из Архангельска, Игорь Белов. Заведующий облздравотделом позвонил Белову, сказал, что он может наконец-то идти в отпуск, и направил меня на работу в хирургическое отделение районной больницы Грязовца, так что я мог работать по специальности – хирургом.
И вот через несколько часов с маленьким чемоданчиком я вышел из поезда на станции этого города и на привокзальной площади нашел газик с медицинским красным крестом на крыше. В нем были удалены два сиденья, а вместо них сделаны носилки, на которых можно было сидеть или лежать. На этом транспорте я и прибыл в больницу, к главному врачу, очень славной, милой и доброй женщине. Она хотела сразу же определить меня на квартиру, а потом показать больницу, но Игорь Белов перехватил меня, и мы почти бегом направились в хирургический корпус.
Хирургия представляла собой двухэтажное деревянное здание с печками, одной операционной, двумя перевязочными и двумя отделениями – мужским и женским, каждое на 15 коек. Больные были все или после недавно сделанных операций, или с переломами, или с ожогами. Через несколько минут, познакомив меня с операционной сестрой Левашовой Антониной Сергеевной, Игорь Белов, оказавшийся симпатичным беловолосым парнем года на три меня старше, стремительно убежал, как я понял, в долгожданный отпуск.
Мой первый пациент
Ровно через 30 минут в приемный покой экстренно привезли абсолютно пьяного, в травматическом шоке, мужчину с отрезанной поездом ногой. Сейчас я думаю обо всем этом с каким-то ужасом: мальчишка 23 лет, едва месяц назад закончивший курс, один на один, без наставника, – и больной с тяжелейшей шоковой травмой, которая представляла собой окровавленное грязное месиво из осколков костей, лохмотьев мышц и одежды. И никто не спросил меня, а умею ли я вообще ампутировать конечность, держал ли я когда-нибудь в руках ампутационный нож, сумею ли отпилить кость и правильно зашить ампутационную культю.
Никто не спросил меня, держал ли я когда-нибудь в руках ампутационный нож
Не спросила даже операционная сестра, и, как я понял, ей это было все равно: она работала операционной сестрой еще на фронте, видела таких раненых и травмированных сотнями и, наверное, могла бы сделать ампутацию и без меня. У нее была прекрасная выдержка и очень добрые глаза. Она как-то с первой же минуты в операционной окружила меня доверием и доброжелательством. И, слава Богу, не напрасно с третьего курса провел я сотни ночей, дежуря в экстренной хирургии. Все было сделано правильно и завершилось зашитой культей, чисто забинтованной в стерильные бинты, а также одобрительной улыбкой многоопытной Антонины Сергеевны, вмиг ставшей моей доброй помощницей.
Анестезиолог тетя Дуся
Но была и психологическая травма. Не у пациента – у меня самого. Перед ампутацией больному надо было дать эфирный наркоз, другого в те годы не было. Анестезиология в те годы только входила в жизнь, и ставки анестезиолога, конечно, в Грязовце не было.
Наркоз давала санитарка, тетя Дуся, женщина лет 50, умеющая немного писать и читать и ничего не знающая ни о наркозах, ни об их осложнениях и последствиях. Под диктовку хирурга, в данном случае меня, она подносила к лицу пациента маску Эсмарха и капала по каплям эфир до тех пор, пока по рукам больного (зафиксированных крепко-накрепко по краям стола) я не чувствовал, что наступило расслабление. Больной засыпал – считалось, что дело сделано. Если он начинал напрягать мышцы, добавляли еще несколько капель эфира.
Полное отсутствие хирургических перчаток, стерильное белье, потемневшее от бесчисленных стирок и автоклавирования, безумная экономия шовного материала. Так началась моя самостоятельная хирургическая работа с опытнейшей хирургической сестрой (она же единственная ассистентка на операции) и анестезиологом тетей Дусей. Шел 1965 год.
Никакой электрокардиограммы, никакой правильной дозировки эфира. Главное было следить, чтобы после операции, во время неизбежной рвоты, рвотные массы не попали в дыхательные пути. Бог миловал меня и больных: все проходило хорошо, осложнений не было, как не было и нагноений. Так вот, эта самая тетя Дуся перед каждой операцией осеняла себя крестом. Эту ее молитву я тоже хорошо запомнил.

В Грязовце
Будни хирурга
Через несколько часов меня отвезли в деревянный двухэтажный дом, в комнату на втором этаже, где мне предстояло жить. Недалеко от больницы, может, минут десять пешком. Распаковать вещи я не успел – за мной приехала Скорая помощь, и я снова поехал в больницу: поступил больной с острым животом. Можно подумать, что-то уж слишком много и внезапно. Так будет все два года – около 2000 операций за 800 дней. Две-три операции каждый день, конечно, с учетом совсем маленьких. И еще переломы, вывихи и мелкие раны, которые надо ушивать и которые не назовешь операцией.
Память немногое сохранила из жизни в Грязовце. Печку растопить я вначале и не умел так, как положено. У меня никогда не было времени запастись распиленными дровами, а никому в больнице не приходило в голову помочь вечно занятому хирургу. Очень часто, прежде чем растопить печь, я один пилил и колол дрова. Когда же печь удавалось растопить, в комнате все равно первое время оставалось холодно. Спать ложился на лежанке и ночью просыпался от холода, потому что, боясь угореть, не закрывал заслонку, дрова очень скоро прогорали, и снова наступал холод.
Потянулась череда практически одинаковых дней: прием больных, экстренные операции. И неуемное желание делать новые для себя плановые операции, тем более что многие больные за неимением времени или возможностей отказывались ехать в Вологду, в областную больницу. А хирургической работы было много. Хирурги, работавшие в районных центрах Советского Союза, знают это прекрасно. Кроме экстренной хирургии (острый живот, отрезанные поездом руки и ноги, открытые переломы, травмы черепа), это были маленькие раны и большие ранения (ножевые, огнестрельные, вилами, топорами), ожоги, запущенные гнойные воспаления, переломы, вывихи, вся экстренная хирургическая гинекология (за неимением хирурга-гинеколога) и многое другое.
Можно описать это по-другому. Не было ни одной (!) ночи, чтобы за мной не приезжала Скорая. Я ходил в кинотеатр, но не было случая, чтобы меня не вызывали в больницу. Происходило это всегда одинаково. Внезапно останавливался сеанс, зажигался свет, в зал входил водитель Скорой и звал: «Валерий Сергеевич, в больницу!» И никто никогда не сердился на остановку в показе фильма.
Не было ни одной (!) ночи, чтобы за мной не приезжала Скорая
Я ни разу не помылся в бане так, как мне бы хотелось. И всегда, когда уходил из дома (никаких мобильных телефонов не было и в помине), на дверях своей комнаты писал, где я: в кинотеатре, в бане, в столовой, в гостях, в райсовете, в лесу (с указанием дороги). И почти всегда такие прогулки по лесу (20–30 метров по обе стороны дороги) прерывались гудками посланной за мною машины.
Запомнились несчастные больные с фантомными болями в ампутированных конечностях. Таких больных было несколько. Некоторые лишились ноги во время войны, другие – после железнодорожной травмы. Ампутации делались или наспех, или неумело, нерв обрабатывался неправильно. По прошествии нескольких лет растущий очень медленно нерв достигал рубцовой ткани культи, и нервные окончания начинали травмироваться, упираясь в эту рубцовую ткань. Это всегда вызывало сильнейшую непрекращающуюся боль, которую можно было снять только наркотиками.
Наркотики были, но довлела установка, которая требовала не делать из больных людей, приверженных к наркомании. Эти постоянные столкновения желания снять такие боли и того, что количество расходуемых в месяц наркотиков не должно превышать разрешенную норму, наносили значительную травму моей молодой врачебной психике. Особенно невыносимо тяжелы были неизбежные столкновения с такими больными.
В районе
Грязовец оказался довольно грязным городом – там была одна глина. Дороги в районе – и того хуже. Вдруг я получаю вызов в далекую участковую больницу, на десять коек, где нет никакой операционной, где работает молодой участковый врач, не знающий хирургии, а у молодой женщины острый живот. Ни на какой машине в ту деревню проехать нельзя, может, если повезет, на тракторе, особенно последние 3–4 километра. Больной такой путь не осилить. И это в середине XX века. Однако надо было спешить: с острым животом не шутят.
Приходилось оперировать при свете фар трактора, направленных через оконное стекло
Я выехал немедленно. За два километра наша машина встала, утопая в непроходимой грязи, но тут уже ждал нас (я был с операционной сестрой) трактор, на котором мы и прибыли к старенькому деревянному дому, переоборудованному в участковую больницу. У молодой женщины оказалась внематочная беременность с разрывом трубы и кровотечением в брюшную полость. Ее надо было срочно оперировать, что мы и сделали в простой перевязочной, вернее, процедурной комнате, без операционной лампы.
Были у меня и другие подобные вызовы, были и случаи, когда на вызове приходилось оперировать при свете керосиновых ламп или фар трактора, направленных в импровизированную операционную через оконное стекло.
Я тогда был занят больной и не обратил никакого внимания на плохо сохранившуюся старую дворянскую усадьбу Брянчаниновых – Покровское. Да и не сказал никто, что здесь провел свои детские годы святитель Игнатий (Брянчанинов). И до революции, и теперь, после реставрации, усадьбу Брянчаниновых восторженно называют «Русским Версалем», отдавая должное величию архитектуры, утонченности усадебной культуры, единству природы и искусства в обустройстве великолепного парка. И еще много лет буду я проходить мимо сокровищниц русской духовной и дореволюционной жизни. Правда, и страна с охотой помогала мне в этом, уничтожив все, что можно.
Недолгим был этот грязовецкий период моей жизни, но вспоминаю его профессиональную часть с удовольствием и гордостью. Я занимался делом, помогал людям и многих спас. Спасли бы и другие хирурги, но Бог распорядился так, что других рядом не было.

Усадьба Брянчаниновых
«На все воля Божия»
В Грязовце я впервые столкнулся с одним труднообъяснимым явлением – с тем, что было трудно объяснить с точки зрения науки или с точки зрения атеиста. У меня было несколько случаев, когда я находился в полной уверенности, что пациент должен умереть: его травмы или болезнь были просто несовместимы с жизнью. А они, эти вроде бы безнадежные больные, каким-то чудом выживали. Я просто не мог понять: что за сила пришла им на помощь и почему они остались живы?
И были случаи прямо противоположные: больные, по всем показателям, должны были выжить, но вдруг по непонятным причинам им становилось хуже, никакие усилия не приводили к улучшению, и они умирали, оставляя нас в полном недоумении: почему это случилось?
Я тогда мало обращал внимания на слышанные мной фразы: «На все воля Божия». Но с возрастом и опытом стал понимать, что при одном и том же заболевании, диагнозе, состоянии больных, одинаково хорошо выполненной операции – один больной выживает, а другой умирает. И не за что зацепиться, чтобы сказать: этот умер потому, а этот выжил поэтому, – кроме той самой фразы: «На все воля Божия».
Врач от Бога очень часто знает будущую судьбу больного
Когда говорят «врач от Бога», мне кажется, имеют в виду не только Богом вложенные в человека знания и умения. Врач от Бога очень часто знает будущую судьбу больного. Я знал таких врачей... Например, академик Владимир Иванович Бураковский, кардиохирург, был врачом от Бога не только из-за своего умения блестяще оперировать, но и из-за того, что часто знал, чем закончится операция.
Так я постепенно переставал быть атеистом.
В последние месяцы моего пребывания в Грязовце в нашу больницу на постоянную работу приехал сорокалетний хирург из Москвы, который специально искал именно тихий районный город. Что-то очень серьезное заставило его бросить работу в Москве и с женой и ребенком уехать в Вологодскую область. А я оставил на него пациентов и отправился поступать в аспирантуру.

Академик, кардиохирург Бураковский
Как меня приняли в аспирантуру
Потом я работал в институте Вишневского, в те годы это была лучшая хирургическая школа.
Поступил в аспирантуру следующим образом. Пришел на собеседование к заместителю Вишневского по науке, профессору Сергею Павловичу Протопопову. Это был старый русский интеллигент из дворянского рода, мягкий в обращении и очень добрый. Он поговорил со мной – и просит ученого секретаря:

Александр Васильевич Вишневский
– Примите у молодого человека документы на сдачу экзаменов в аспирантуру.
– Мы его принять не можем: он не москвич.
– Но я уже подписал его заявление, как же я могу взять назад свое слово?!
На 6 мест в аспирантуру претендовали 30 человек. Я сдал все три экзамена на «отлично» и оказался принят.

Вишневский на операции
Дальше были годы учебы и труда, это можно описывать долго, скажу только, что с годами стал доктором медицинских наук, профессором, заместителем директора по науке Института сердечнососудистой хирургии имени Бакулева, генеральным секретарем Всероссийского общества сердечнососудистых хирургов. Читал лекции в Америке, в Милуоки, в Институте сердца, по хирургии врожденных пороков сердца. Написал 650 статей, монографий, брошюр. Занимался организацией программы по кардиомиопластике.
Но это обычным читателям, наверное, не очень интересно, лучше я расскажу о том моменте, как наконец стал верующим человеком.

Кардиохирург Чеканов
«Господи, помоги!»
В то время в нашем Институте сердечнососудистой хирургии имени Бакулева мы иногда выполняли операции на сердце в барокамере. Сердце можно остановить на 5–6 минут и затем благополучно завести, но иногда этих минут недостаточно. А в условиях барокамеры сердце можно остановить на 10 минут, потому что чем выше давление, тем больше кислорода в крови, значит, сердце получает больше времени для безопасной остановки. Свою первую операцию на открытом сердце я выполнял именно в условиях барокамеры.
Для этого в барокамере поднимают давление до трех атмосфер, на это уходит один час, и все это время операционная бригада с больным находится в барокамере. Через час начинают операцию, а когда она заканчивается, нужно еще час ждать, пока давление опустят до нормы – только тогда можно открыть дверцу.
И вот я должен был делать свою первую операцию на открытом сердце. Обычно, когда хирург делает первую операцию какого-то типа, принято, чтобы ему ассистировал опытный врач. Это особенно важно, когда имеешь дело с человеческим сердцем: одно неосторожное движение может повлечь за собой тяжелейшие осложнения, исправить которые можно только с помощью великого хирургического искусства. Опытный хирург ассистирует и для того, чтобы учить, и для того, чтобы в случае необходимости предотвратить или исправить возможную ошибку.
Тогда впервые в жизни я совершенно осмысленно сказал: – Господи, помилуй! Господи, помоги!
А мне тогда в помощь дали двух молодых хирургов, только что пришедших в институт. Я знал, что если допущу ошибку, как минимум в течение часа никто не сможет прийти мне на помощь. С одной стороны, был по молодости очень горд, что мне дают такую возможность, что в меня, как в хирурга, верят. С другой стороны, очень, очень боялся.
И вот тогда впервые в жизни я совершенно осмысленно сказал:
– Господи, помилуй! Господи, помоги!
И после этого уже перед каждой операцией в барокамере стал молиться.

Кардиохирург Валерий Сергеевич Чеканов
Я открыл свое собственное сердце Богу
Видимо, постепенно в моей душе каким-то чудесным образом соединилось все пережитое: и рассказ профессора Шипова о загробном мире, и молитва тети Дуси, и одухотворенные лица священников из ленинградского храма, и слова: «На все воля Божия».
И после того, как я впервые по собственному желанию помолился, – что-то произошло со мной. Словно я открыл наконец свое собственное сердце Богу – и Он властно и уже навсегда вошел в мою душу.
Вскоре мы с супругой покрестились. Во время Крещения я, к своему теперешнему стыду, осматривался: нет ли в храме прихожан, которые меня знают и которые могут сообщить на работу о моем поступке. Компартия была тогда еще жива, и за свое решение креститься я вполне мог вылететь с работы, по крайней мере с должности заместителя по науке.
В юбилейный год 1000-летия Крещения Руси, в 1988-м году, началось возрождение веры в нашей стране, стали открываться и реставрироваться церкви и монастыри. Мы с супругой уже много лет регулярно ходим в храм, я несу там послушание библиотекаря и еще несколько послушаний. Но это, как говорится, совсем другая история...

Валерий Чеканов
Подготовила Ольга Рожнёва,
23 января 2019 г.
Просмотров: 1184

